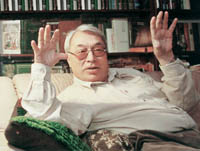 «Мои земляки по Северу, — утверждает писатель Юрий РЫТХЭУ, — сегодня находятся на грани полного вымирания, исчезновения с Земли, и этому немало будет способствовать претворение в жизнь Закона «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации», принятого Государственной Думой России 16 апреля 1999 года, одобренного Советом Федерации 22 апреля того же года и подписанного Президентом Российской Федерации 30 апреля 1999 года в Москве, в Кремле, за № 82-ФЗ». Писатель делится с читателями «Северных просторов» своими замечаниями по этому поводу.
«Мои земляки по Северу, — утверждает писатель Юрий РЫТХЭУ, — сегодня находятся на грани полного вымирания, исчезновения с Земли, и этому немало будет способствовать претворение в жизнь Закона «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации», принятого Государственной Думой России 16 апреля 1999 года, одобренного Советом Федерации 22 апреля того же года и подписанного Президентом Российской Федерации 30 апреля 1999 года в Москве, в Кремле, за № 82-ФЗ». Писатель делится с читателями «Северных просторов» своими замечаниями по этому поводу.
Статья 1 закона посвящена основным понятиям. В ней определяется, что «коренные малочисленные народы Российской Федерации (далее — малочисленные народы) — народы, проживающие на территориях традиционного расселения своих предков, сохраняющие традиционный образ жизни, хозяйствования и промыслы…»
Таким образом, привязывая этим определением малочисленные народы к землям своих предков, закон недвусмысленно ограничивает права человека Севера территорией, своего рода резервацией, за пределами которой чукча перестает быть чукчей, коряк коряком, эскимос эскимосом и так далее. То же самое и с «традиционным образом жизни». Что это вообще за «традиционный образ жизни»? Жизнь в яранге, в чуме? Отсутствие электричества, телефона, телевидения? Обнаружив у эскимоса компьютер, есть основания придраться к тому, что он нарушает статус человека малочисленного народа и вполне может быть исключен из состава своего народа. Предполагает ли привязанность к «традиционному образу жизни» потребление только местных продуктов питания, ношение только традиционной одежды?
В этих определениях, которые при дальнейшей расшифровке еще больше показывают их зловещий смысл, исподволь протаскивается мысль о лишении представителей малочисленных народов их законного в общечеловеческом смысле права на прогресс, на изменение своего социального и экономического положения на основе достижений общечеловеческого прогресса. В противном случае закон «о гарантиях» навеки приковывает людей к прошлому.
Пункт об «этнологической экспертизе» вообще выходит за рамки общечеловеческой морали и невольно воскрешает в памяти гитлеровские методы определения чистоты «германской нации».
За этой «заботой» «о гарантиях» проступает расистский дух, возможно непреднамеренно внесенный составителями этого закона. Они забыли, что чрезмерная забота, попытки как-то выделить в особую группу какое-нибудь этническое образование не что иное, как отделение его от остальной части человечества, вытеснение его на обочину мировой цивилизации, узаконенное признание его второсортности.
Получается, что если та или иная малочисленная народность в силу каких-нибудь объективных причин (зверь ушел, истощились пастбища, традиционные источники существования) решила, к примеру, разрабатывать силами своей общины золотоносный участок вблизи своего селения, то согласно закону она автоматически выбывает из числа малочисленных народов, принадлежность к которым определяется, как гласит документ, «этнологической экспертизой». Эта унизительная для людей процедура с удивительным спокойствием закрепляется законодательно, вопиюще противореча любым конституционным нормам цивилизованных стран, в том числе и Конституции Российской Федерации.
Все эти замечания полностью относятся к статье 3 Закона «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации».
Статья 4 этого закона призвана обеспечить права малочисленных народов на социально-экономическое и культурное развитие. По своему содержанию она не конкретна и скорее является благим пожеланием, повторяющим предыдущие статьи, только несколько иными словами.
В статье 5 «Об участии Российской Федерации в защите исконной среды обитания, традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов малочисленных народов» есть примечательный пункт (1), где говорится: «К разработке и экспертизе проектов указанных федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации могут привлекаться уполномоченные представители малочисленных народов». Надо заметить, что слово могут в данном контексте не имеет обязательного характера. Это, скорее, пожелание. А вот что такое «уполномоченные представители», можно легко вообразить — это люди, отобранные администрациями, где, как известно, представители малочисленных народов имеют устойчивое меньшинство.
В статье 6 «в целях защиты исконной среды обитания» предоставляется право коренным народам «создавать на общественных началах при органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации советы представителей малочисленных народов для защиты прав и законных интересов указанных народов». Все, кто мало-мальски знаком с нашей практикой создания чего-либо на общественных началах, легко могут представить, что такого рода организации и представительства создаются под строгим контролем местной администрации и федеральных органов от рядового клерка до ФСБ–КГБ. Это все равно, что создавать общественную организацию оленей под контролем волчьей стаи, в данном случае жадного до власти и привилегий хищного чиновничества.
В тексте закона чуть ли не каждая более или менее серьезная статья имеет ссылку на «соответствие федеральному законодательству», что при нынешнем весьма путаном и несовершенном федеральном законодательстве предоставляет неограниченный простор чиновничьему произволу, почву для вольного толкования пунктов закона.
В статье 8 утверждается, что «малочисленные народы в целях защиты их исконной среды обитания, традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов имеют право: 1) безвозмездно владеть и пользоваться… землями различных категорий». Можно было бы только приветствовать это, если бы не одно существенное упущение или намеренное забвение права человека, представителя малочисленного народа, на частное землевладение. На моей памяти такие неписаные, однако всеми безоговорочно признаваемые землевладения на Чукотке существовали. К примеру, Пакайка владел землями от мыса Кытрыткын, что при входе в залив Святого Лаврентия до самого его конца. И его, между прочим, даже не спросили, когда возводили на его земле сначала Чукотскую культбазу, а затем и аэродром.
«Общераспространенные полезные ископаемые», которые государство «щедрой» рукой отдает коренным жителями, не что иное, как слой вечной мерзлоты. А вот на самое ценное, что лежит под ней, что называется «недрами», на то у людей Севера нет никаких прав, и закон даже не считает нужным упоминать как раз о том, что в нормальном мире составляет богатство народов.
При нынешнем бесправии человека Севера, всесилии бюрократии и усилении власти нового, жадного чиновничества трудно рассчитывать на то, что это самое «безвозмездное пользование землями различных категорий» будет легкоосуществимо для моих земляков, мало искушенных в хитросплетениях современных законов. Для многих лабиринты коридоров современных учреждений порой просто непроходимы. Так, Владимир Эйневчейвун два года обивал пороги районной администрации, добиваясь, чтобы ему отвели участок для строительства дома в Пинакуле, в бухточке, где когда-то располагалась морская зверобойная станция Чукотского района, от которой остались одни руины и остовы разбитых кораблей. Человека, вознамерившегося возродить древний промысел на родной земле, гоняли из кабинета в кабинет, с этажа на этаж целых два года, чтобы отвести ему несколько квадратных метров на пространстве миллионов никем не занятых квадратных километров!
В статье 10, в параграфе 5, декларируется право малочисленных народов «соблюдать свои традиции и совершать религиозные обряды, не противоречащие федеральным законам, законам субъектов Российской Федерации…». Как известно, в России всемерно поддерживается первенство православия, и Святейший Алексий II стал почти что вторым лицом в нашем государстве. Но есть народы, которые вообще не принимали христианства, как, например, чукчи и эскимосы.
Очень важная и судьбоносная статья 11 о «территориальном общественном самоуправлении малочисленных народов» изложена так кратко и неконкретно, что она вообще теряет свое значение.
Казалось бы, этот пункт развивается дальше, в статье 12 закона. Благие пожелания о праве «создавать на добровольной основе общины малочисленных народов и иные объединения малочисленных народов в соответствии со своими национальными, историческими и культурными традициями» тут же, следующим пунктом, сводятся к нулю угрожающим текстом: «особенности организации и деятельности общин малочисленных народов и иных объединений малочисленных народов регулируются федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации».
Статья 13 обещает «квоты представительства малочисленных народов, защиты их исконной среды обитания в законодательных (представительных) органах, субъектов Российской Федерации и представительных органах местного самоуправления». И этот пункт закона туманно и необязательно обещает с помощью глагола «могут» жизненно важное право коренному человеку Севера решать собственную судьбу, собственную жизнь и жизнь своей земли.
Ни для кого не является секретом, что Север на всем своем протяжении наводнен людьми, которые кочуют с места на место в поисках лучшей жизни, высокой оплаты. Среди населения сегодня значительную долю составляют люди, готовые при первой же возможности уехать, сидят на чемоданах, с упакованными контейнерами. Наконец, в некоторых районах Арктики находятся военнослужащие, срок службы которых кончается через два-три года. И эти люди, составляющие подавляющее большинство электората, являются решающим фактором при выборах глав администраций, губернаторов, членов местных законодательных собраний. Именно их всячески ублажают кандидаты в депутаты на выборах, им даются щедрые обещания. Вот почему в местных исполнительных органах крайне низок процент представителей коренных народов. А что с ними цацкаться — на выборах их голоса не составляют решающего веса!
А между прочим, есть простой выход из этого положения: то или иное выборное лицо считается избранным на пост, если за него проголосует не менее половины принявших участие в голосовании представителей местного коренного населения! Тогда все становится на свои места.
Признать за коренными малочисленными народами Севера право распоряжаться на своей земле ее богатствами, ресурсами в полном объеме, а не только вечной мерзлотой, строить по своему разумению социальную и экономическую жизнь, используя для этого не только традиционный, вековой опыт, но и достижения современной науки и техники, мировой цивилизации — до этого «гаранты» либо не додумались, либо намеренно умолчали об этом.
Закон не гарантирует права отравленного многолетним употреблением алкоголя коренного жителя Севера на излечение от этого недуга и права на трезвую жизнь. Конечно, при нынешнем вечно пьяном состоянии большинства народа сойдет и этот закон.
Мало того, этот закон при нынешнем виде может быть использован в целях разжигания межнациональной вражды.
Мои комментарии к закону — это мнение частного лица. Но если попробовать все же внимательно вникнуть в этот неудобочитаемый документ, создается впечатление, что его готовили люди, либо не знающие истинного положения малочисленных народов на местах, либо те, кому на самом деле наплевать на судьбы народов, когда-то составивших красу и гордость Севера, не ведающие об их бедственном социальном и экономическом положении. Они создали документ, не гарантирующий, а, скорее, ограничивающий права малочисленных народов Севера.
(Закон цитируется по тексту, опубликованному
в «Российской газете» от 12 мая 1999 года.)
